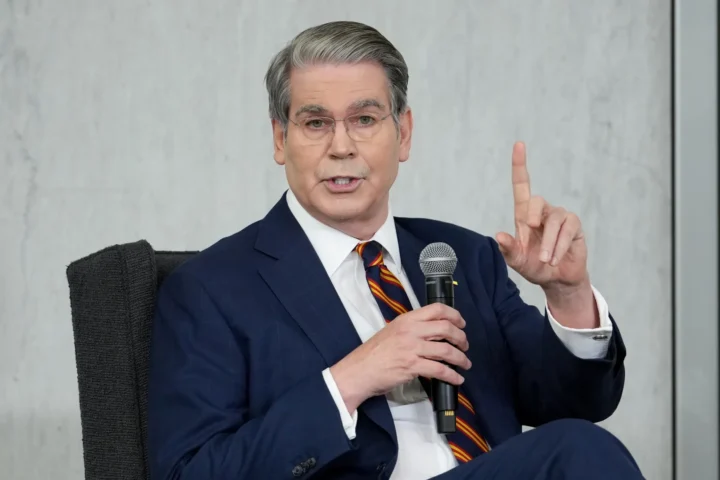Журналист и историк Гаррет М. Графф — автор новой книги «Когда море ожило: устная история Дня „Д“». Его предыдущая книга, «Уотергейт: новая история», в прошлом году вышла в финал Пулитцеровской премии в области истории.
Каждый день сине-золотой поезд «Янтарь» отправляется из Москвы в 1 285-километровое путешествие в Калининград — российский эксклав с населением полмиллиона человек на берегу Балтийского моря, зажатый между Литвой и Польшей.
Однако в пятницу, 19 марта 2027 года, электричество в широком секторе восточной Литвы отключается, и поезд за час до границы встаёт.
Сначала пассажиры не придают значения ни остановке, ни отключению, но по мере того как часы идут, недоумение растёт. К вечеру по вагонам проходят проводники и объясняют, что нет сведений о сроках восстановления электроснабжения и что, поскольку у пассажиров нет виз для въезда в объединённую визовую зону Европы, их нельзя выпускать из поезда. Мобильная связь ещё работает, и обеспокоенные и голодные российские пассажиры начинают публиковать тревожные твиты и видео в TikTok; один из них утверждает, что 82-летней бабушке требуется неотложная помощь.
Около полуночи губернатор Калининграда объявляет, что направляет в Литву подразделение пограничной полиции для доставки еды и припасов. Кортеж служебных автомобилей с полицейской маркировкой прорывается на высокой скорости через слабо охраняемый пограничный переход и мчится по шоссе A7; американская разведка позже оценит, что большую часть российской группы составили ветераны сил специального назначения, закалённые на фронтах войны на Украине, но одетые в форму пограничной полиции.
Литовская полиция и несколько армейских подразделений устремляются в погоню за российским кортежем, который прибывает к поезду и начинает разгружать воду и продукты. В Вильнюсе в центре чрезвычайных операций подозревают, что отключение связано с кибератакой, исходящей из России. Дежурные поднимают по тревоге премьер-министра и министра обороны. Между Вильнюсом и Калининградом, а затем и Москвой, начинают лететь телефонные звонки. Российские власти настаивают, что они лишь защищают своих граждан и помогают сохранить суверенитет Литвы, не позволяя российским пассажирам выйти из поезда.
К субботнему утру поезд окружён концентрическими кольцами российских сил, а также литовских военных и полиции. Около полудня раздаются шесть выстрелов. Падают трое российских полицейских: двое убиты, один ранен; ранен и один литовский полицейский. Литовские наблюдатели утверждают, что стреляли из поезда, но ситуация всё равно обостряется. Менее чем через час Кремль объявляет, что направляет войска в Литву, чтобы обеспечить безопасность и эвакуацию поезда, и спустя 20 минут бронеколонна пересекает границу из Калининграда — колонна столь крупная и тяжеловооружённая, что ни один наблюдатель не поверил бы, будто её удалось собрать всего за несколько часов.
В Москве Владимир Путин выпускает заявление, объясняя, что отправляет лишь спасательную операцию; это, обещает он, не вторжение. Министр обороны Литвы в панике звонит в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, а премьер-министр столь же панически звонит Президенту Дональду Трампу в Мар-а-Лаго. В обоих звонках послание кратко: помогите.
Вышеописанный сценарий вымышлен — пока — но он, или нечто на него похожее, кажется более чем возможным. Спросите тех, чья работа — думать о конфликтах, где в ближайшие пять лет может вспыхнуть война, и Прибалтика — трио Эстонии, Латвии и Литвы, вышедших из состава Советского Союза после падения Берлинской стены, регион, который Путин с радостью вернул бы себе, — окажется почти в каждом экспертном списке.
Но не только она. В этом году уже два из наиболее пристально наблюдаемых потенциальных конфликтов воплотились в реальность — в мае ракеты полетели над индийско-пакистанской границей, а затем в июне Израиль вступил в войну с Ираном из-за его программы создания ядерного оружия. Хотя индийско-пакистанская стычка быстро завершилась, стратегические итоги мгновенного тактического успеха Израиля в Иране остаются в высшей степени открытым вопросом.
Этим летом исполняется 80 лет со дня окончания Второй мировой войны, и хотя подобный гигантский пожар может казаться далёким, на деле в большинство дней мир находится ближе к крупным региональным или даже глобальным столкновениям, чем кажется. Появление новых подрывных технологий и асимметричных преимуществ, таких как автономные вооружения и беспилотники, вероятно, сделает ближайшие годы более нестабильными способами, о которых ещё не задумывались.
Анализ недавних показаний и докладов американской разведки, а также интервью с полудюжиной специалистов по геополитике ясно показывают, что помимо Ближнего Востока существует ещё пять заметных и рискованных конфликтов, которые теоретически могут развернуться в ближайшие пять лет и все они способны иметь глубокие и серьёзные последствия для США — в военном, экономическом или геополитическом плане. Это зоны высокого напряжения, где военное вторжение, подобное вторжению России на Украину в 2021 году, спиральная эскалация или даже просто неудачные 24 часа недопониманий, ошибок, военных инцидентов или просчётов могут привести к крупному противостоянию, человеческим жертвам и глобальным разломам.
Война непредсказуема и обычно её труднее выиграть, чем кажется на старте — урок, который США тяжело усвоили в своих двух десятилетиях конфликтов в Афганистане и Ираке, — но это редко бывало сдерживающим фактором. Напротив, война была одной из немногих постоянных и неудержимых человеческих деятельностей с самых ранних записанных эпох, хотя часто оказывалась губительной и для агрессоров, и для защитников.
Вот краткий путеводитель по самым горячим точкам мира — местам, где нелогичная логика войны с наибольшей вероятностью возьмёт верх следующей.

Обиженные ядерные соседи
Индия — Пакистан
Предыстория: В течение четырёх дней в начале мая казалось, что мир может столкнуться с одним из самых страшных ядерных сценариев — серьёзным конфликтом между Индией и Пакистаном, двумя странами с ядерными арсеналами, которые, скажем так, контролируются и охраняются не столь тщательно, как того хотели бы эксперты. Напряжённость усилилась после террористической атаки в конце апреля в спорном индийском регионе Джамму и Кашмир, в результате чего последовали несколько дней обменов неядерными ракетными ударами по военным базам по обе стороны границы. До заключения прекращения огня (которому, возможно, помог Трамп, а возможно и нет) это был самый серьёзный конфликт между странами за десятилетия.
Споры о приграничных регионах уходят к исходной британской разделительной линии 1947 года, когда из бывшей колонии Великобритании были созданы Индия с индуистским большинством и Пакистан с мусульманским большинством. С тех пор происходили стычки — включая войны 1965 и 1971 годов, последняя из которых привела к появлению новой «линии контроля» между индийским Кашмиром и пакистанским Кашмиром. Более недавно страны воевали в 1999-м, но в целом сохраняли мир с 2003 года, хотя низкоуровневые пограничные бои уносили десятки жизней. Индия продолжает — и небезосновательно — жаловаться, что Пакистан поддерживает террористическую активность на индийской территории.
Ставки: Индия и Пакистан, вероятно, ближе к обмену ядерными ударами, чем любые две страны на планете. «Бюллетень учёных-атомщиков» оценивает, что у Пакистана около 170 ядерных боезарядов. У Индии, по сходным оценкам, около 180 боезарядов. Любой ядерный обмен в Южной Азии имел бы, очевидно, огромные глобальные экологические и экономические последствия, помимо мгновенных человеческих потерь: разрушенные города и ветры, несущие радиоактивные осадки по широкой округе. Даже если другие крупные державы, такие как США и Китай, не были бы втянуты в саму войну, эффекты «ядерной зимы» в атмосфере резко сказались бы на производстве продовольствия в соседнем Китае и гораздо дальше; одно исследование Ратгерского университета 2019 года подсчитало, что последующий голод затронет «миллионы — или даже миллиарды» людей.
Почему это вероятно: Майский конфликт подчеркнул, что как только начинается столкновение, у сторон остаётся не так много ступеней эскалации, прежде чем они выйдут в действительно опасные зоны. «Как только вы начинаете серьёзно поражать военные базы другой стороны, вы начинаете разрушать их сети командования и управления, и их способность к выверенной реакции будет снижаться», — говорит Кристофер Клэри, внештатный научный сотрудник Центра Генри Стимсона и бывший директор по странам Южной Азии в Пентагоне. Руководители разведсообщества беспокоятся об Индии и Пакистане именно потому, что у конфликта короткий и труднопонимаемый запал. «Видно, как он может перейти с нуля на шестьдесят, несмотря на то, что ни одна сторона не хочет войны, поскольку внутренняя политика с обеих сторон подталкивает их к эскалации, каждая играет на действиях другой», — говорит Эврил Хейнс, которая занимала пост директора национальной разведки у бывшего президента Джо Байдена. Особо тревожит, что, по-видимому, в пакистанской военной доктрине низкий порог применения ядерной силы против Индии — а давление внутренней политики, смешавшись с относительной незрелостью арсеналов и доктрин обеих стран, может привести к тому, что любой ядерный обмен превратится в спешку применить десятки, а то и многие десятки боезарядов как можно быстрее, что выльется в сотни ядерных ударов всего за несколько дней войны.
Почему это маловероятно: Проще говоря, и чтобы назвать очевидное, крупная война между Индией и Пакистаном была бы плоха для обеих стран. «Главный драйвер мира между Индией и Пакистаном — тот факт, что у обеих есть другие неотложные приоритеты: для Индии это очень серьёзное стратегическое соперничество с Китаем, а также повестка развития, чтобы вывести Индию на уровень стран со средним доходом», — говорит Клэри. Что касается Пакистана, он отмечает, что страна сталкивается с восстаниями в Белуджистане, а также в пуштунских районах вдоль границы с Афганистаном. «Они настолько серьёзны, что должны отнимать колоссальную долю внимания», — говорит Клэри.

Самое страшное вторжение
Китай — Тайвань
Предыстория: Спросите почти кого угодно о самых тяжёлых по последствиям конфликтах ближайших лет — вам укажут на Тайваньский пролив, где Си Цзиньпин нацелился на покорение Тайваня. Оставим в стороне тот факт, что остров в своей истории никогда не контролировался тем же правительством, что и материковый Китай. Си также понимает то, что увидел Путин в отношении Украины: население острова отдаляется от него и от всякого интереса к объединению с Китаем.
Ставки: Точно так же как Прибалтика может стать спусковым крючком для проверки НАТО, Тайвань считается лакмусовой бумажкой того, кто будет вести мировой порядок XXI века: Соединённые Штаты или Китай? Хотя формальных договоров о защите не существует, США давно заявляют, что поддержат Тайвань, но многие сомневаются, настолько ли Президент Дональд Трамп привержен этому обещанию, как прежние администрации. К тому же военные игры вашингтонских аналитических центров поставили тревожные вопросы о том, действительно ли США захотят или смогут воевать с Китаем из-за Тайваня: запасы вооружений США вряд ли продержатся в многомесячном конфликте с Китаем, а «военные игроки» подсчитывают, что потери США могут быть огромными, опередив суммарные потери во Вьетнаме и Корее за считанные месяцы.
Если Китай захватит Тайвань — либо без международного сопротивления, либо вопреки ему, — это мгновенно перепишет геополитику и союзы в Тихоокеанском регионе, поскольку страны Юго-Восточной Азии и тихоокеанского ободка, которые долгое время прежде всего ориентировались на США, задумаются, какая сверхдержава может лучше служить их долгосрочным экономическим и оборонным интересам. Захват Тайваня может даже подтолкнуть к ядерному распространению встревоженные страны вроде Южной Кореи — и Японии, — которые могут усомниться, будут ли США в решающий момент рядом в будущем.
Что делает войну вероятной: Считается, что Си обозначил 2027 год как срок, к которому его вооружённые силы должны быть готовы к вторжению на Тайвань. Страна переживает масштабное наращивание потенциальных десантных сил и, похоже, проводит более регулярные учения. «Они отрабатывают [сценарии по Тайваню] постоянно, потому что это самое важное, к чему их армии могут когда-нибудь быть призваны», — говорит Джон Файнер, бывший заместитель советника по нацбезопасности в администрации Байдена.
Более того, Си выстроил себе образ преобразующего фигуру в китайской истории, и по мере того как 2020-е подходят к концу, а он думает о своём наследии и завершении своего срока во власти, Тайвань остаётся одной из крупных «незавершённых» задач. Он усилил контроль над Тибетом и полностью взял под контроль Гонконг, а Тайвань тем временем уходит всё дальше. По мере развития внутренней политической ситуации на Тайване Си может почувствовать, что окно для действий закрывается, — и решиться.
Что делает войну маловероятной: Неясно, насколько Си доверяет своей армии, которая не только пронизана коррупцией, но и неопытна. Имели место многочисленные чистки и множество признаков того, что Си не полностью контролирует политически влиятельные институты армии и флота. Переправа через пролив и вторжение на Тайвань были бы одной из самых амбициозных и сложнейших военных операций в мировой истории — и Китаю пришлось бы выполнять её армией, которая, несмотря на массу учений и современную технику, имеет ничтожный реальный боевой опыт. В последний раз Китай воевал в 1979 году — краткий конфликт с Вьетнамом, — и фактически не имеет действующих офицеров или военнослужащих с реальным боевым опытом. Си наверняка извлёк некоторую осторожность и из проблемного вторжения России на Украину — которое, если смотреть «на бумаге», было куда более лёгкой и управляемой задачей для армии с более свежим боевым опытом, чем у Китая.
Есть и множество опций «ниже порога вторжения», которые Си мог бы попытаться реализовать и к которым, по-видимому, Китай регулярно готовится — включая действия серой зоны, такие как блокада или попытка вводить таможенные пошлины на товары, уходящие с Тайваня или прибывающие на него. В конечном счёте эффект со временем может оказаться тем же, что и при прямом захвате, но для американских политиков это будет куда более трудной темой для вступления в борьбу. Пойдут ли США на риск жизнями целых одной-двух авианосных ударных групп, чтобы прорвать «таможенный карантин» Тайваня?

Проверка НАТО
Россия и Прибалтика
Предыстория: Три балтийские страны малы по размеру и населению, что делает их заманчивой целью для России, стремящейся вновь заявить о себе. Цель Путина в случае прибалтийской вылазки была бы двоякой — и вернуть территории, которые, как он считает, исторически должны быть частью России, и испытать НАТО и Европу, ударив по некоторым из самых маленьких и изолированных её членов.
Габриэлюс Ландсбергис, который до прошлого декабря занимал пост министра иностранных дел Литвы, говорит, что опасается сценария вроде «спасательной группы», направленной к застрявшему калининградскому поезду. «Иногда неправильно понимают, как может выглядеть конфликт», — говорит он. Он пояснил, что Россия, возможно, пытается десенсибилизировать своих соседей, организуя небольшие, но загадочные атаки, например, взрыв зажигательного устройства в самолёте или попытку поджога в торговом центре. «Вот так выглядит война — это не сотни или тысячи российских военных, хлынувших потоком, а нечто гораздо более будничное. В подобных гибридных сценариях Путин постарается как можно дольше не провоцировать Статьи 4 или 5, пока фактически не добьётся своих целей».
Ставки: Нападение на любую из трёх балтийских стран — все они присоединились к НАТО в рамках его расширения 2014 года — стало бы мгновенной проверкой приверженности США давнему союзному договору. «Это была бы проверка Россией обязательств по Статье 5 в отношении этих союзников по НАТО», — говорит Эвелин Фаркас, исполнительный директор Института Маккейна и бывшая сотрудница Пентагона. Это вопрос и дилемма, которая преследовала президентов эпохи холодной войны: рискнули бы США действительно подвергнуть ядерной атаке, скажем, Чикаго или Сиэтл ради защиты Западного Берлина тогда или, в наши дни, Риги, Вильнюса или Таллина? Непостоянная поддержка Европы и НАТО со стороны Дональда Трампа делает вопрос ещё острее — и, возможно, ещё более заманчивым для Путина. И даже если США изначально отойдут от поддержки в случае прибалтийской вылазки, что если другие страны НАТО ринутся на помощь, а Россия ответит прямыми ударами, скажем, по Польше, Германии или Великобритании — союзникам, которых США куда вероятнее станут защищать?
Почему это вероятно: Путин годами ясно даёт понять, что желает воссоздать Советский Союз и империю Российской империи, вернув такие страны, как Грузия, Молдова, Украина и Прибалтика. Кроме того, он очень стремится разрушить западный либеральный порядок, который, по его мировоззрению, ответственен за умаление России. Ничто не распустит западный порядок быстрее, чем демонстрация пустоты его гарантий безопасности, если позволить одному или всем балтийским государствам оказаться вновь оккупированными Россией.
Почему это маловероятно: Во многом траектория любого российского удара по Прибалтике зависит от траектории войны на Украине, которая продолжает перемалывать российскую военную мощь быстрее, чем кто-либо ожидал. Украина недавно оценила, что Россия понесла миллион потерь — убитых, раненых и пропавших без вести — за три года войны. «С января 2024 года Россия обменивала огромные объёмы техники на всего лишь метры земли», — заключал этой весной доклад CSIS. В апрельских показаниях в Конгрессе глава Европейского командования США генерал Кристофер Каволи сказал, что, по оценке США, только за прошлый год Россия потеряла около 3 000 танков, 9 000 бронемашин, 13 000 артсистем и свыше 400 систем ПВО.

Самая напряжённая граница
Индия — Китай
Предыстория: Как и её пограничный спор с Пакистаном, давние пограничные напряжения Индии с Китаем восходят ко временам британской колониальной эпохи — Британия и Тибет согласовали границу с Индией в 1914 году, которую Китай так и не признал. В 1962-м китайские войска попытались занять территорию, считавшуюся индийской, что привело к месячному конфликту с парой тысяч погибших. В результате Китай перерисовал границу и назвал её «Линией фактического контроля». Последующие бои в 1967 году унесли жизни нескольких сотен военных с обеих сторон, а ещё одно столкновение удалось впритык предотвратить в 1980-е, когда Китай неверно истолковал индийские учения как возможную атаку. С тех пор армии обеих стран превратились в одни из крупнейших и наиболее технологически оснащённых в мире.
Граница протяжённостью 2 500 миль с Индией отражает более широкую геополитическую реальность для Китая: он расположен в одной из самых недружелюбных географий любой страны мира; у него сухопутные границы с 14 соседями — больше, чем у любой другой страны, — и спорные морские границы ещё с семью. В своей книге «Поиски Китаем безопасности» политологи Эндрю Дж. Нэйтан и Эндрю Скоубелл отмечали, что среди этих соседей — четыре из восьми других ядерных держав мира и что со времён Второй мировой войны Китай воевал с пятью своими соседями.
Ставки: С одной стороны, ставки конфликта кажутся ничтожными — речь о самых удалённых и малопригодных для жизни горных долинах и перевалах мира, в области, известной как «крыша мира», расположенной в наименее населённых уголках двух самых населённых стран планеты. И всё же, как и во многих конфликтах, дело не в том, где война может начаться, а в том, к чему она может привести. Эксперты по геополитике беспокоятся о репутационных рисках, которые обе страны быстро ощутят при любых боестолкновениях: Китай может считать бой с Индией необходимым, чтобы «остудить» других региональных противников — или как способ поставить США в неловкое положение, ударив по ключевому союзнику в Индо-Тихоокеанском регионе.
Любой потенциальный конфликт сталкивается с серьёзной асимметрией: у Индии значительно больше населённых центров в зоне досягаемости китайских средств поражения, чем у Китая — на своей стороне. Но пока напряжённость Индии с Китаем обернулась благом для США — помогая Индии теснее выстраивать региональную координацию с Вашингтоном, а также отталкивая её от традиционной опоры на закупки российского оружия, по мере того как Россия и Китай сближаются.
Почему война вероятна: Проще говоря, регион готов для недоразумений и эскалации — и сегодня напряжение настолько глубоко и взрывоопасно, что китайским и индийским военным запрещено носить огнестрельное оружие вдоль границы; в 2020 году стычки между армиями высоко в Гималаях, в отдалённой долине Галван, неподалёку от места боёв 1962 года, велись в жестоких рукопашных схватках — кулаками, камнями, обломками ограждений и даже дубинками, обмотанными колючей проволокой. Погибли как минимум 20 индийских военнослужащих, некоторые сорвались со склонов, а китайских — возможно, до 40.
Другой фактор, делающий войну вероятнее, — отсутствие у двух стран обычных «страховочных» механизмов, договорённостей и регулярных каналов общения, которые помогают деэскалировать кризис — как «горячая линия» Москва—Вашингтон предотвращала просчёты в период холодной войны. Китай постоянно и прямо уклоняется от создания таких каналов с США, Индией и другими странами, считая подобные «ограждения» попыткой несправедливо сдерживать рост Китая.
Почему война маловероятна: Как бы высоко ни было напряжение на местах, маловероятно, что руководство Индии или Китая захочет войны из-за столь удалённых территорий — и, вероятно, последует быстрое и серьёзное международное давление на деэскалацию. Кроме того, обе страны испытывают колоссальное экономическое давление внутри: Индии надо удерживать темпы роста, а Китай уже вступает в завершающие годы демографического пика трудоспособного населения. «Большая драка с другой миллиардной страной Азии — трудно представить, что это совместимо с удержанием экономики на плаву», — говорит Клэри. Последние шаги, похоже, свидетельствуют о том, что Китай, напротив, пытается укреплять отношения с настороженной Индией.
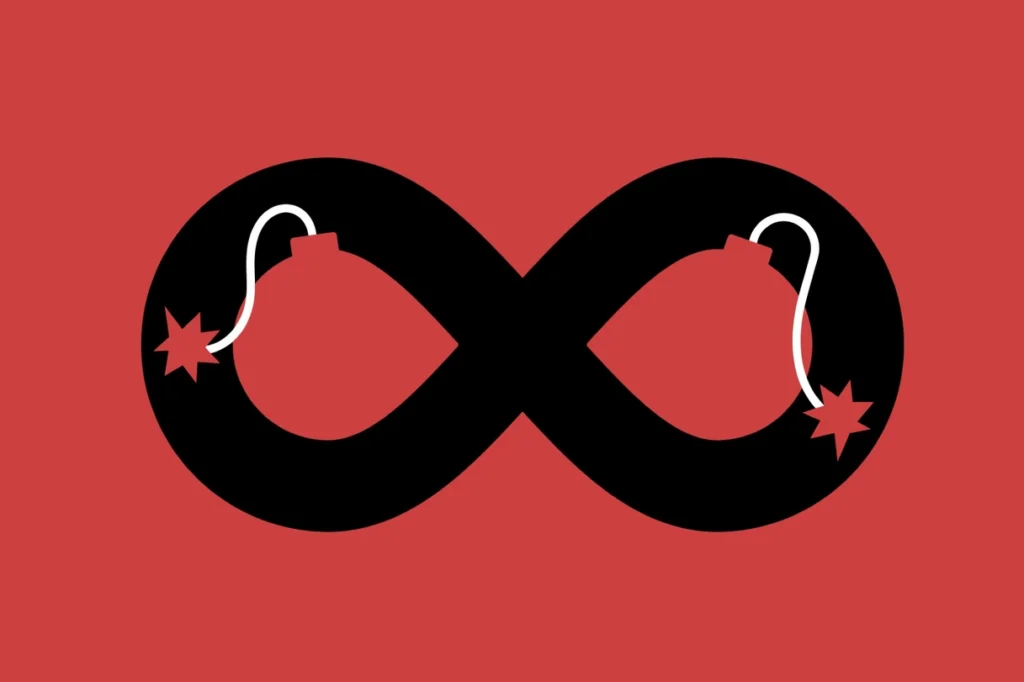
Бесконечная война
Корейский полуостров
Предыстория: Почти три поколения спустя после начала Корейская война так и не закончилась официально, и это чувствуют и высокоразвитая западная экономика Юга, и Север, едва дотягивающий до эпохи аграрного уклада. 155-мильная демилитаризованная зона между Севером и Югом существует так давно — около шести десятилетий, — что превратилась в один из самых диких лесных массивов в мире, где обитают тысячи видов. По её краям, примерно в 2,5 милях друг от друга, внешний периметр DMZ — одно из самых укреплённых и защищённых мест на Земле, с готовыми к применению артиллерией и минными полями, а весь Сеул легко находится в зоне досягаемости северокорейских ракет.
Ставки: Запредельно высоки. Нет такого режима в мире, о внутренней жизни, балансе сил и планах которого США и Запад знали бы меньше, чем о так называемом Королевстве-отшельнике — Северной Корее. Это чрезвычайно сложная разведывательная цель, которая постоянно преподносит Западу сюрпризы. В США до сих пор дислоцированы 30 000 военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности Южной Кореи — все они окажутся под прицелом в первые часы любой большой войны.
Почему война вероятна: Северная Корея — страна, медленно приходящая в упадок, раздираемая голодом и изнутри парализованная жестокостью режима, а лидерство Ким Чен Ына ничего не сделало для разворота вектора её будущего. Его козырь — ядерное оружие, которое уберегло его от судьбы диктаторов вроде Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи. Если Ким почувствует открывающуюся возможность и слабость или — справедливо или нет — сочтёт, что его правлению со стороны Запада грозит экзистенциальная опасность, возможно всё.
Корейский полуостров — также регион, где могут проявиться очень серьёзные вторичные последствия, если развернётся любой из других конфликтов из этого списка. Если, к примеру, Китай двинется против Тайваня или США уклонятся от защиты Прибалтики, это может заставить страны усомниться в гарантиях безопасности США против Северной Кореи или Китая — и эксперты-разведчики опасаются, что Южная Корея или даже Япония могут попытаться обзавестись собственным ядерным оружием. Недавние опросы общественного мнения в Южной Корее показывают, что 70 процентов населения поддерживают создание собственного ядерного арсенала — цифры и политическое давление наверняка вырастут, если возникнут сомнения, будут ли США защищать страну в случае войны.
Почему война маловероятна: Хотя Северная Корея разработала ядерное оружие и элементы системы доставки, не вполне ясно, насколько уверенно она может быть в способности успешно запустить и довести боезаряд до цели. Согласно недавним оценкам, обстановка на Корейском полуострове столь стабильна, как не была уже много лет, — а с Трампом в Белом доме, который, как известно, дважды принимал его на саммитах, Ким может чувствовать себя настолько уверенно, как давно не чувствовал. «Не думаю, что Ким Чен Ыну это нужно сейчас. Не думаю, что ему нужен конфликт», — говорит Фаркас, бывшая сотрудница Пентагона.
Разумеется, геополитика непредсказуема — и история редко разворачивается по предсказуемой схеме, так что всегда есть «джокеры» и, как говорил бывший министр обороны Дональд Рамсфелд, «неизвестные неизвестности», когда мы сталкиваемся с миром таким, каков он есть, а не таким, каким хотели бы его видеть. И многих в Вашингтоне и дружественных столицах за его пределами нервирует то, что страна, которая раньше была крупнейшей силой стабильности на планете — Соединённые Штаты, — теперь ощущается как главный фактор непредсказуемости в мире.
Хотя США, возможно, и не кажется, что вот-вот окажутся втянутыми в крупный конфликт, немногие в зарубежных столицах понимают, как ориентироваться в «пространстве возможного», когда речь о текущем состоянии интересов США. Как союзникам и противникам трактовать порой странную и непредсказуемую воинственную риторику администрации Трампа и то, что она может предвещать для напряжённости США в ближайшие годы? Насколько серьёзен и реалистичен интерес Овального кабинета к превращению Канады в 51-й штат или к «забиранию» Гренландии у Дании — двух стран, которые на деле были нашими самыми стойкими союзниками в XXI веке? К тому же впервые в этом году руководители американского разведсообщества подняли зарубежные нелегальные наркокартели на верхнюю строчку списка угроз США — ссылаясь на поток фентанила и других наркотиков, которые продолжают убивать более 50 000 американцев в год. Администрация Трампа, похоже, серьёзно — по крайней мере в некоторые дни — рассматривает расширение военных действий в Мексике, скрытых или явных, с участием или без участия её правительства.
И ещё есть вечный фон соперничества великих держав. США и Китай вступают в всё более тесное трение в большем числе сфер, чем когда-либо. Достаточно взглянуть в ночное небо, где сотни спутников кружат вокруг Земли; некоторые из них теперь, по-видимому, вооружены или, по крайней мере, способны наносить ущерб другим объектам на орбите. Создание Космических сил США до сих пор чаще воспринималось как повод для шуток, чем как серьёзная область для конфликтов, но разговоры почти с любым осведомлённым лидером нацбезопасности — демократом или республиканцем — быстро переходят к тревоге о каскадных последствиях любого конфликта в небесах высоко над нашими головами.
В конце концов, возможно, наш самый большой риск — вовсе не один из тех конфликтов, которые стратеги-геополитики давно изучают в военных играх и «белых книгах». Вместо этого им может оказаться нечто, чего пока нет ни на чьих радарах, — объявленное ночным или утренним твитом или постом в Truth Social, — что перевернёт мировой порядок.
Статья, размещенная на этом сайте, является переводом оригинальной публикации с Politico. Мы стремимся сохранить точность и достоверность содержания, однако перевод может содержать интерпретации, отличающиеся от первоначального текста. Оригинальная статья является собственностью Politico и защищена авторскими правами.
Briefly не претендует на авторство оригинального материала и предоставляет перевод исключительно в информационных целях для русскоязычной аудитории. Если у вас есть вопросы или замечания по поводу содержания, пожалуйста, обращайтесь к нам или к правообладателю Politico.